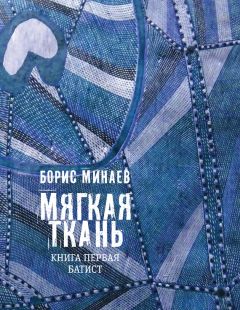Ознакомительная версия.
Однажды он поймал Милю за рукав и заставил войти внутрь своего хлебного заведения.
Здесь пахло очень вкусно, как всегда, но было темновато.
По сравнению с лавкой колониальных товаров людей было совсем мало. Калачи свисали с потолка в сырой полумгле как-то очень обиженно и сиротливо, как будто ими давно никто не интересовался. Булочник завернул для Мили маленькую сдобу в серую бумагу, сунул ему в руку и закрыл поплотнее дверь.
– Мальчик! – сказал он торжественно. – Твой отец – ребе? Не говори, не надо. Я знаю, кто твой отец. Но я знаю, что отец твоего отца был ребе. Мальчик, я тебя прошу поговорить с Богом о моем деле. Ты найдешь слово. Ты можешь. Пожалуйста. Попробуй.
Булочник наклонился и прошептал Миле на ухо несколько слов.
Потом он взял его за плечо и вывел на улицу.
И в этот момент случилось нечто необъяснимое.
Миля шел по направлению к дому. Вскоре он бежал. Потом, кажется, уже летел. Но никак не мог добежать. Все встало как вкопанное. Не шевелилась лошадь, приподняв одну ногу. Застыл, в недоумении разведя руками, городовой. Летевшая с крыши здоровенная куча снега застыла, так и не добравшись до мостовой. И Миле стало страшно.
В ту первую встречу с булочником потрясенный Миля больше всего запомнил эту неподвижную картинку мира…
Эти дома, окна, фонари, зубы, волосы, корки хлеба, коробки от сигарет – всё с изумлением смотрело, как Миля пытается бежать сквозь них. А слова булочника не запечатлелись, Миля их не запомнил.
Но что еще запомнилось – та сдоба в серой бумаге, которую булочник сунул ему в руку. За булку, которая стоила, наверное, полкопейки, он хотел купить его услугу.
Неужели Миля казался ему безмозглым, бессмысленным, пустым, ничего не понимающим болванчиком, который исполняет такие просьбы? Может быть, в том, что он их вообще выполнял, и была его вина?
Когда Миля вернулся домой, оставив в подъезде на широком бесконечном подоконнике серый пакет, страх отступил. Здесь все было прежним. Он пошел в комнату без окна и забрался на необъятный диван. Лег на спину.
Миля как будто проглотил полено. Даже дышать было трудно. Поплыли слезы. Но в этом домашнем пространстве, где все дышало любовью, ему было легче. Он повернулся на бок и подложил руку под голову. «Никогда, никогда больше не пойду на Сумскую», – шептал он.
Но Миля, конечно, пошел на Сумскую. Буквально на следующий день.
Булочник стоял в дверях и молча смотрел на него, когда он проходил мимо. Потом сделал вот что – кивнул в сторону соседа. И подмигнул.
Миля побежал бегом.
Вера с Ларисой недоуменно смотрели ему вслед.
Рассказать дома об этой последней просьбе Миля почему-то никак не мог. У него не поворачивался язык. Да и как сказать? Как повторить то, что сказал ему булочник, если Миля не помнил эти слова? Он, который старательно, дотошно, дословно запоминал все просьбы, а их ведь было немало, старательно повторял их, шевеля губами перед сном, но именно эти слова, самые БОЛЬШИЕ, запомнить не сумел.
…Владелец лавки колониальных товаров скончался под колесами извозчика. Это была нелепая смерть – копыто пробило голову, нога хрустнула под колесом, ребра были продавлены страшным ударом внутрь. Но смерть, как сказали доктора, наступила мгновенно – ужас от наступившей боли заставил остановиться сердце тридцатитрехлетнего, молодого и здорового человека.
Извозчик, осмотрев еще теплое тело, нашел лежавшее в соседнем дворе полено и начал бить свою лошадь.
Он делал это тщательно, хорошенько все взвесив, выбрав точки для удара. Он бил ее по спине, но так, чтобы не сломать хребет. Бил по зубам. Лошадь хрипела, пыталась встать на дыбы, но не получалось. Она вновь падала на передние ноги и вновь получала страшный удар. Лошадь выплевывала кровь, ее налившийся болью взгляд метался от ужаса, на потной морде проступали какие-то пятна.
Бабы, стоявшие рядом, визжали от страха и пытались остановить извозчика криком и словами. Но это было бесполезно. Пока набежавшие мастеровые не набросились на него и не оттащили от уже обезумевшей лошади, он не мог остановиться. Лошадь слепо потащила повозку вместе с телом вперед, и только новый страшный крик толпы остановил ее. Тело бережно вытащили из-под повозки, положили на расстеленную шинель и отнесли в дворницкую.
Все это происходило тут же, на Сумской улице, в двух шагах от их дома.
Слава богу, в этот день Миля был простужен, сидел дома с теплым шарфом на шее и на Сумскую не выходил.
Но всю эту сцену видела их кухарка Сашенька, крупная смешливая девушка с толстой косой. Свой страх от увиденного она запомнила навсегда. И позднее, прожив целую жизнь, так и не смогла его забыть: то, как извозчик бил свою ни в чем не повинную лошадь, и то, как лошадь тащила по мостовой изуродованное тело, показалось ей страшнее всего, что может происходить в принципе. Это было знамение божье, и потом даже глаза людей, которых при ней забирали на расстрел, и вопли женщин, которых казаки насильничали в соседнем дворе, даже немецкие бомбы, разрывавшие на клочки всю ее родину вместе с людьми, – ничто не могло для нее сравниться с тем, что она видела в тот день на Сумской.
Сашенька медленно пришла домой и все рассказала на кухне, со всеми подробностями.
Как всегда, Миля услышал то, чего не должен был слышать.
Он закачался, ушел в комнату без окна и в полумраке забился за кожаный диван.
Его долго искали и не могли найти, бегали по комнатам с криками, пока не выволокли оттуда, в слезах и соплях.
Но он не признался в тот день.
Не признался и позже.
Миля боялся раскрыть тайну булочника. Боялся не как взрослый, который будет взвешивать за и против, опасаться последствий и пытаться вытеснить из сознания страшную мысль, убежать или уехать от нее. Нет, Миля просто не мог описать эту тайну своими словами. Она висела над ним страшным проклятием. И он… смирился с ней.
Когда это произошло – он не помнил. Но помнил, что именно с этого момента булочник стал возникать в его жизни буквально на каждом шагу.
Вскоре в квартиру нагрянули двое городовых.
Каневский еще не пришел с работы, и городовые медленно, осторожно придерживая шашки, прошли на кухню. Кухарка и няня встали в дверях, а средние дети забегали через каждую минуту, испуганно разглядывая это чудо – оба офицера полиции прихлебывали чай, молча, важно, периодически разглаживая усы.
Наконец в дверь прозвонил звонок, вошел хозяин дома и состоялась беседа.
Она имела очень странный характер.
Знаете ли вы булочника Гершензона с Сумской улицы, дом такой-то? Да, знаю. Знаете ли вы купца Чуйкина, владельца лавки колониальных товаров с Сумской улицы? Нет, не знаю. Знаете ли вы, что он недавно скоропостижно скончался? Да, слышал. Знаете ли вы, при каких обстоятельствах он скоропостижно скончался? Нет, не знаю. Знакомы ли вы с его семьей? Нет, не знаком. Знаете ли вы, в каких отношениях находились эти два господина? Нет, не знаю. Знаете ли вы, в каких отношениях находился ваш сын Иммануил, девяти лет, с означенными господами? Понятия не имею.
Владимир Моисеевич начал медленно багроветь.
– Простите… – медленно начал он свою речь. – Не могли бы вы пояснить… О чем, собственно…
– Обязательно, – сухо сказал один из них, – чуть позже…
– Нет, позвольте, – совсем сильно побагровев, сказал Каневский. – Я думал, речь идет о происшествии или даже о преступлении, которое совершено на Сумской улице, и вы меня опрашиваете, так сказать, в качестве свидетеля. Хотя для этого есть дворник, есть прислуга, которые торчат на улице круглые сутки и знают в сто раз больше меня. Однако же я готов выполнять свой долг. Но при чем тут мой малолетний сын?.. Пока вы не соизволите…
– Мы соизволим, – сухо сказал другой офицер. – Всему свое время, господин Каневский.
И странный разговор продолжался.
Наконец, Владимир Моисеевич уяснил, о чем идет речь.
– И что же вы собираетесь предпринимать? – тихо осведомился он.
– Выяснить все обстоятельства дела.
– А какие обстоятельства, я просто не понимаю, – удивился хозяин дома. – В чем вы нас обвиняете?
– Вас никто не обвиняет.
– Тогда что вы тут делаете?
– Задаем вопросы…
В таком духе они проговорили с офицером полиции еще с полчаса.
Этот офицер с закрученными маленькими усиками поначалу произвел на Владимира Моисеевича гораздо более приятное впечатление, чем его второй товарищ: он казался более образованным, держался естественнее. И только лишь потом Каневский ощутил холодную волну ненависти, исходившую от него. Второй городовой смотрел напуганно, глаза его были расширены от страха и заодно от восторга. Он, видимо, никак не мог уяснить смысл происходящего.
Ознакомительная версия.